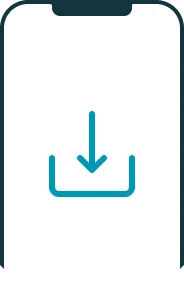Nature Communications | (2025) 16:8883.
doi.org
Natural immune boosting biases pertussis infection estimates in seroprevalence studies
Matthieu Domenech de Cellès, Anabelle Wong, Tine Dalby, Pejman Rohani
Естественное повышение иммунитета влияет на оценку коклюшной инфекции в исследованиях серопревалентности
Знакомство
Коклюш – это высококонтагиозное респираторное заболевание, вызванное бактерией Bordetella pertussis, а также другими бактериями рода Bordetella. Исторически сложилось так, что эта распространенная детская болезнь приводила к высокой младенческой смертности, пока во второй половине двадцатого века разработка и широкое использование цельноклеточных коклюшных вакцин (wP) не привела к значительному сокращению зарегистрированных случаев заболевания. В то время как вакцины wP по-прежнему рекомендуются ВОЗ и широко используются во всем мире, многие страны с высоким уровнем дохода перешли на бесклеточные коклюшные вакцины (аP), которые стали доступны в 1990-х годах. Несмотря на относительно высокий охват вакцинацией во всем мире (~ 85% для первичной вакцинации за последние десять лет), бремя коклюша остается значительным: по оценкам, в 2019 году было зарегистрировано 19,9 миллиона новых случаев заболевания среди детей в возрасте 0–14 лет. Неожиданно в нескольких странах с высоким уровнем дохода и устойчивым высоким охватом вакцинацией, включая США, Швецию и Данию, наблюдался всплеск коклюша. И хотя число зарегистрированных случаев коклюша резко упало вскоре после начала пандемии COVID-19 во многих странах, особенно в Европе, в настоящее время зарегистрирован рост случаев коклюша, приводящих к младенческой смертности. Эти тревожные тенденции подчеркивают сохраняющуюся угрозу коклюша, который остается одним из наименее контролируемых заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин во всем мире.
Основной проблемой в эпидемиологических исследованиях коклюша является точная оценка уровня коклюшных инфекций. Стандартные системы эпиднадзора часто не справляются, потому что об инфекциях сообщается только тогда, когда у пациентов проявляются симптомы, они обращаются за медицинской помощью и получают клинический или лабораторный диагноз. Для коклюша эта проблема считается острой как минимум по трем причинам. Во-первых, бессимптомные инфекции могут быть распространены, особенно (но не только) среди вакцинированных возрастных лиц. Во-вторых, клинический диагноз, основанный на типичных симптомах коклюша, таких как приступообразный кашель и посткашлевая рвота, может быть неточным. В-третьих, не педиатры могут не принимать коклюш во внимание и не диагностировать его у взрослых пациентов. Эти факторы в совокупности способствуют занижению числа случаев, которые, по оценкам, являются значительными для коклюша.
Из-за ограниченности стандартных данных эпиднадзора сероэпидемиология часто используется для оценки распространенности антител против антигенов B. pertussis, обычно иммуноглобулина G (IgG) против коклюшного токсина (PT, токсина, уникального для B. pertussis). Но поскольку серологические корреляты защиты остаются неидентифицированными для коклюша, титры анти-PT IgG плохо коррелируют с иммунитетом против инфекции. Действительно, антитела против PT IgG от вакцинации снижаются до неопределяемого уровня в течение нескольких лет, в то время как защита сохраняется дольше. Такая длительная защита может быть обусловлена относительно медленным прогрессированием коклюшной инфекции (средний последовательный интервал составляет ~ 3 недели), так что ответные реакции клеток памяти могут быть достаточно быстрыми, чтобы обеспечить частичную защиту даже в отсутствие циркулирующих антител. Следовательно, в большинстве исследований серопревалентности, или серообследований, серопозитивность интерпретируется как свидетельство недавней инфекции, где недавность инфекции зависит от порога IgG, используемого для определения серопозитивности. Поскольку как симптоматические, так и бессимптомные инфекции обычно вызывают иммунный ответ, серологические исследования могут гипотетически определить уровень передачи инфекции в последнее время, включая бессимптомные инфекции.. В результате исходная гипотеза многих серологических исследований заключается в том, что серопревалентность является более точным показателем циркуляции коклюша по сравнению с данными эпиднадзора, основанными на конкретных случаях, особенно среди взрослых. Казалось бы, подтверждая эту точку зрения, исследования обнаружили значительные расхождения между показателями инфицирования, полученными в результате серологических обследований, и данными, полученными от эпиднадзора, при этом серологические обследования часто показывают гораздо более высокие показатели инфицирования, иногда на несколько порядков.
Однако некоторые исследователи поставили под сомнение эту точку зрения и предупредили, что серологические данные могут быть неспецифичными. Эта критика основана на том факте, что серология сама по себе не может отличить инфекцию от естественного иммунитета. Другими словами, заражение B. pertussis при контакте с инфицированным носителем может вызвать повышение иммунитета, или анамнестический ответ, у лиц, защищенных перенесенной инфекцией или вакцинацией, что приводит к серопозитивности, но не к продуктивной инфекции, которая может передаваться другим носителям (т.е. трансмиссивной инфекции). Чтобы прояснить нашу терминологию в отношении исходов контактов с B. pertussis, приводящих к серопозитивности, мы в дальнейшем ограничиваем наше определение инфекции контактом, приводящим к трансмиссивной инфекции (симптоматической или бессимптомной), и мы определяем другие контакты как естественные иммуностимуляторы. Мы считаем это определение оправданным, поскольку трансмиссивные инфекции, возможно, являются наиболее актуальными с эпидемиологической и эволюционной точки зрения.
Эмпирические данные подтверждают идею о том, что при коклюше происходит повышение иммунитета. В исследовании домохозяйств, проведенном в рамках клинического испытания aP в Швеции, сообщалось о частых наблюдениях серопозитивности без положительного результата бактериологического исследования. Аналогичным образом, в эксперименте на людях с участием взрослых в возрасте 18–45 лет самая высокая доза инокулята в 100 000 колониеобразующих единиц вызвала сероконверсию у всех участников. Тем не менее, обширный отбор проб окружающей среды не смог обнаружить никакого бактериального выделения, что свидетельствует об отсутствии трансмиссивной инфекции. В исследовании вакцин aP у взрослых старше 50 лет в Австралии их эффективность была существенно недооценена, когда случаи были выявлены с помощью серологического исследования с одним титром, по сравнению со случаями, подтвержденными ПЦР. Авторы интерпретировали это расхождение как свидетельство неправильной классификации случаев и низкой диагностической специфичности серологического исследования в их условиях, что свидетельствует о повышении иммунитета. Эта совокупность данных говорит о том, что серологические исследования могут переоценивать частоту коклюшных инфекций.
Несмотря на периодические упоминания об этих сложностях, потенциальная ненадежность серологических исследований и влияние укрепления иммунитета на интерпретацию серопозитивности часто упускаются из виду в литературе (см. наш обзор опубликованных серологических исследований ниже). Из-за этой недостаточной осведомленности достоверность серологических обследований систематически не изучалась. Устранение этого пробела в знаниях имеет важное значение для согласования различных оценок коклюшной инфекции, полученных в результате серологического обследования и эпиднадзора на основе конкретных случаев, а также для более точной оценки воздействия коклюшных вакцин. Здесь мы представляем результаты популяционной модели передачи коклюша, которая отслеживала динамику инфекции, укрепления иммунитета и серопозитивности, а также позволила сравнить с эмпирическими оценками серопревалентности. Сначала мы откалибровали модель на основе данных о серопревалентности в конце эры вакцин wP в шести европейских странах. Это позволило нам с помощью всестороннего имитационного исследования предсказать распространенность и надежность серопозитивности в различных странах мира.
Обсуждение
В этом исследовании мы стремились оценить надежность исследований серопревалентности коклюша, в частности, как хорошо задокументированный феномен естественного укрепления иммунитета может привести к тому, что такие исследования переоценивают коклюшные инфекции. Чтобы решить эту проблему, мы разработали новую модель передачи коклюша, которая отслеживает динамику серораспространенности, что позволяет сравнивать ее с эмпирическими оценками серологических исследований. Сопоставляя эту модель с двумя крупными европейскими серологическими обзорами в конце эры wP, мы оценили, что защита, полученная от инфекции / вакцинации wP, длится в среднем в течение нескольких десятилетий (учитывая, что продолжительность варьировалась и была намного короче у значительной части населения). Затем мы спрогнозировали распространенность и положительную прогностическую ценность (PPV) серопозитивности среди взрослых возрастных групп в двенадцати странах, которые в целом репрезентативны для моделей передачи инфекции во всем мире. В целом, мы прогнозировали низкую PPV серологии для исследований серопревалентности по нескольким сценариям, особенно у молодых людей в возрасте 20–39 лет, где она упала ниже 50% почти во всех протестированных сценариях. Мы приходим к выводу, что проблема укрепления иммунитета, вероятно, является серьезной, что делает необработанные оценки серопревалентности потенциально вводящими в заблуждение при интерпретации по отдельности. Наша модель может быть полезна для анализа данных о серопревалентности, в идеале в сочетании с данными о заболеваемости для синтеза всех имеющихся доказательств и получения более точных оценок коклюшных инфекций.
При сравнении нашей модели с данными по серопревалентности, полученными в ходе двух крупных европейских серологических исследований, мы обнаружили наилучшее совпадение модели и данных для средней продолжительности защиты, полученной от инфекции / вакцинации wP, в 30–50 лет (общий диапазон 95% доверительных интервалов: 20–80 лет). Поскольку наша модель не учитывала некоторые реальные сложности коклюша (такие как сезонность передачи, различия в охвате вакцинацией или изменения в демографической структуре), мы подчеркиваем, что эта оценка является лишь приблизительной. Тем не менее, она согласуются с предыдущими оценками моделей иммунобустирования, адаптированных к данным о заболеваемости. По оценкам Wearing и Rohani, продолжительность защиты, полученной от инфекции / вакцинации wP, в 20–40 лет лучше всего воспроизводила межэпидемические периоды, а в 40–100 лет — модели затухания эпидемий, наблюдавшиеся в эпоху wP в Англии и Уэльсе (предполагая уровень повышения иммунитета 0,5 и экспоненциальное распределение продолжительности защиты). Основываясь на данных о заболеваемости в довакцинальную эпоху в Копенгагене, Дания, Lavine et al. оценили, что защита, вызванная инфекцией, длится в среднем 34 (95% ДИ: 17–66) лет, что хорошо определено, несмотря на минимальную информацию о параметре иммуноусиления (6,6, 95% ДИ: 0,66–66). Используя ту же модель, Rozhnova и соавт. обнаружили, что средняя продолжительность защиты, вызванной инфекцией, в 40 лет (при условии, что коэффициент повышения иммунитета равен 1), приводит к периодическим эпидемическим моделям, соответствующим тем, которые наблюдались в эпоху до вакцинации в Онтарио, Канада, и Лондоне.
Хотя различия в структуре моделей не позволяют провести точное сравнение всех имеющихся оценок, наши результаты дополняют обширный объем модельных и эпидемиологических данных о длительной (но переменной) защите, обеспечиваемой естественной инфекцией и вакцинами против коклюша, а также о заметном влиянии вакцин против коклюша на ситуацию с заболеваемостью. Они также предполагают, что из-за естественного повышения иммунитета и высокой трансмиссивности коклюша ожидается, что показатели серологической распространенности среди взрослых при использовании несовершенных, но высокоэффективных вакцин составят несколько процентов, даже в группах населения с почти идеальным охватом вакцинацией детей.
В отличие от продолжительности защиты, все протестированные значения для укрепления иммунитета привели к одинаково хорошему согласованию модели и данных. Следовательно, мы не могли оценить этот параметр, основываясь только на данных серопревалентности. Другие попытки определить этот параметр на основе данных о заболеваемости дали аналогичные оценки. Нижняя граница 0,66 была выявлена в исследовании Lavine et al. в Копенгагене. Нижняя граница в 10 была оценена на основе данных довакцинальной эры в Массачусетсе, США, но последующее исследование, проведенное в США, показало, что такие уровни слишком высоки, чтобы воспроизвести наблюдаемые модели возрождения коклюша с 1970-х годов. Учитывая это, по общему признанию, ограниченные данные, мы считаем, что рассматриваемый нами диапазон (0,5–5) является разумным, но мы признаем остающиеся неопределенности. Следовательно, многообещающим направлением для будущих исследований будет подгонка нашей модели к нескольким реальным источникам данных для более точной оценки уровня укрепления иммунитета и частоты симптоматических и бессимптомных инфекций коклюша.
Наши результаты свидетельствуют о том, что интерпретация оценок серопревалентности коклюша является сложной задачей и должна рассматриваться в более широком эпидемиологическом контексте. В частности, мы обнаружили, что распространенность и надежность серопозитивности являются результатом сложного взаимодействия между укреплением иммунитета, ослаблением защиты и возрастными моделями контактов. В частности, мы прогнозируем, что PPV серологических исследований в исследованиях серопревалентности предсказуемо изменяется с возрастом, при этом самые низкие значения наблюдаются у молодых людей (20–39 лет). Поразительно, но почти во всех протестированных сценариях PPV упала ниже 50% в этой возрастной группе. Другими словами, интерпретация серопозитивности как доказательства недавней инфекции может быть неверной более чем в половине случаев в этой возрастной группе. Этот вывод заслуживает внимания, так как наш обзор показал, что данная интерпретация была почти универсальной в исследованиях серопревалентности. В старших возрастных группах (40–59 лет, 60–79 лет) надежность серопозитивности была лучше, но все еще низкой во многих сценариях, при этом максимальная PPV варьировалась от 79–85% при самом низком уровне бустинга до 27–40% при самом высоком. Следовательно, в соответствии с более ранними подозрениями и эмпирическими данными, наши результаты подчеркивают, что при анализе данных о серопревалентности коклюша необходимо учитывать вопрос укрепления иммунитета. В более широком смысле, наше исследование подчеркивает ключевое различие между контактом и инфекцией, поскольку серопозитивность всегда указывает на первое, но не обязательно на последнее. Таким образом, наши результаты не означают, что серограммы не имеют значения, поскольку данные серопревалентности могут точно количественно оценить уровень воздействия коклюша в популяции.
Еще одно следствие нашего исследования заключается в том, что сравнение данных о случаях заболевания с данными о серопревалентности не даст достоверных оценок занижения данных. Поскольку повышение иммунитета, как правило, приводит к тому, что серопревалентность завышает истинные показатели инфицирования, это соотношение будет иметь тенденцию к недооценке вероятности сообщения или, что эквивалентно, к занижению данных, что, в свою очередь, приведет к чрезмерно пессимистичной оценке влияния коклюшных вакцин на циркуляцию коклюша.